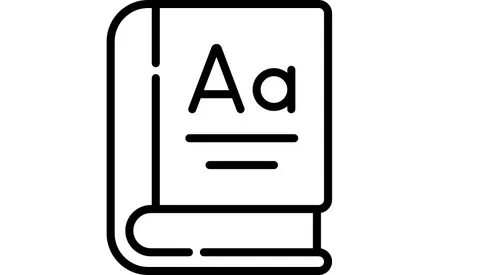В
В лице замечательного советского филолога, академика Виктора Владимировича Виноградова объединялись лингвист и литературовед; это
В стихах А. X. Востокова, по мнению Кюхельбекера, ясно сказался дух русского языка, «свободный
Для современного лингвиста он прежде всего «классик» словообразования. Прочтя его «Заметки по русскому словообразованию»
Кроме формы на -л (читал, пел) в русском языке есть и другие — менее
Время — грамматическая категория, показывающая, когда (по отношению к моменту речи) совершилось (или совершается,
Славянская письменность возникла в ту пору, / когда славяне, после пребывания на своей я
Сравним слова окно и подоконник. В слове окно звуковая форма и значение для нас
Язык чутко отзывается на каждое новшество в жизни общества. Но значит ли это, что
Представьте себе картинку: мальчик с карандашом в руках и бумагой. Заглавие картинки — «Письмо